ПОЛЁТ ШАМАНКИ ИЛИ О ЧЁМ ГОВОРЯТ КАМНИ  0/10
0/10
Рубрика: Статьи, эссе | Автор: Ахадов Эльдар | 17:00:43 17.01.2025
Такое изредка бывает. Мои соседи по салону самолёта сели не на свои места. И когда чуть позже явились эти двое, мужчина и женщина азиатской внешности, случилась заминка. Разобрались с посадочными талонами. Расселись согласно местам, а верхнюю одежду мужчине, как оказалось, некуда класть: вверху, над креслами, всё уже было плотно забито вещами других пассажиров.
Я заметил небольшую нишу вверху напротив и, поскольку сидел с краю у прохода, предложил помощь мужчине. Он тут же благодарно согласился.
Однако, с одним довольно крупным округлым предметом в плотной упаковке он так и не расстался. Круглолицая полненькая женщина-азиатка молчала, её спутник порой обращался к ней на своём языке, который явно не был китайским, но каким был — я в тот момент для себя определить не смог, поскольку слабо улавливаю оттенки быстрой речи.
Лететь предстояло около пяти часов, поэтому не сразу, но всё-таки мы разговорились. А поскольку женщина сидела возле меня, то в основном с ней мы и беседовали. Оказалось, что она — профессиональная потомственная шаманка, летит в Европу на симпозиум по шаманизму. Зовут её Сайсуу Орлановна Оюн. Тувинка. Дочь человека по имени Орлан. Сопровождавший был её братом.
Шаманки в Туве, в самом сердце Азии, не редкость, в каждом роду они есть. А в Европе это — в диковинку. Интересуются. Приглашают. Дорогу оплачивают. Потому и отправляются в дальний путь из Центра Азии тувинские женщины, обладающие экстрасенсорными способностями.
Я поинтересовался предметом, который держал в руках её брат. Выяснилось, что это — настоящий шаманский бубен. На высоте одиннадцати тысяч метров в современном воздушном лайнере из одного конца мира в другой, пересекая пространство и время, летел древний музыкальный инструмент, способный вызывать духов и вводить людей в транс. Признаюсь, в какой-то момент у меня был соблазн попросить моих спутников громко ударить в бубен, но я сдержался. Мне показалось, что стюарды могли бы нас неправильно понять. Может быть, не стоило бояться, но я всё-таки поостерёгся.
Сайсуу поведала о своей кочевой жизни, о том, где, когда и как выступала, о своих предках, о сёстрах, обладающих таким же даром, как у неё. Шаманский дар в их семье передавался по женской линии...
Тувинский шаманизм — явление уникальное, признанное во всём мире. Как говорит Верховный шаман Республики Тыва, председатель ведическо-шаманской организации «Адыг Ээрен» господин Кара-оол Тюлюшевич, «настоящий шаман — это и великий костоправ, и знаток традиций и обрядов, великий танцор и певец. Нужны не только способности, нужно знать все обряды и традиции, поэтому лучше, когда этому учат с детства. Здесь, в Туве, три сокровища: природа, хоомей и шаманизм».
Шаманы используют энергию природы, деревьев, гор, воды, камней и Земли. Хоомей — общеупотребительное название одного из пяти стилей тувинского народного горлового пения.
По исконным представлениям тувинцев, шаманы связаны с другими мирами, и от них, от ветра, неба, земли, происходят древние тувинские мелодии, пение и обряды... Поскольку язык тувинцев относится к тюркским, к алтайской семье языков, то, когда я начал прислушиваться к речи моих попутчиков, отдельные слова мне были понятны без перевода…
Мы расстались почти друзьями, обменявшись на прощание номерами своих сотовых телефонов. Надеюсь, что эта встреча будет не последней. До свидания, Сайсуу Оюн!..
Встреча эта пробудила во мне давние воспоминания о тувинском Туране, в котором мне, находившемуся здесь по производственным надобностям, доводилось ночевать когда-то. Вспомнил я и о местечке с птичьим названием Гагули, откуда начинался маршрут руководимой мной топографической партии — от верховий реки Тёплая к её устью, о тувинских всадниках-пастухах, с которыми приходилось чаёвничать у костра, о зелёных холмах Тывы и её бескрайней степи. Кстати, названия республики (Тыва и Тува) с началом нового века по Конституции, принятой в этом субъекте Российской Федерации, стали равнозначными. Правильное название языка — тувинский, а жителей — тувинцы, тувинец, тувинка.
Однажды, уже много лет назад, один из старейших геологов Восточной Сибири, ныне покойный Анатолий Илларионович Науменко в беседе со мной коснулся темы истории происхождения народов, населяющих ныне Енисейскую Сибирь. И вдруг с хитроватой улыбкой он вынул из ящика старинного стола некий округлый чёрный предмет...
Надо сказать, что стол седовласого геолога был наполнен, как мне казалось, необыкновенными вещами: образцами самых разных горных пород, добытых им в бесчисленных экспедициях в течение многолетней и непростой геологической деятельности. А хитринка в глазах Науменко всегда была предвестием чего-то необъяснимого и потому чрезвычайно любопытного. На сей раз этим предметом оказался вовсе не минерал, а вроде бы обычный с виду кусок старой почерневшей меди. И вот какую историю поведал мне геолог...
В конце сороковых годов прошлого столетия, находясь в тувинских степях, где до горизонта нет ни деревца, он обнаружил этот кусок меди на дне глубокого геологоразведочного шурфа, который выкапывали горнорабочие. По всему было видно, что это — выплавленный в медеплавильной печи слиток. Тут же он разглядел и остатки самой печи. Сквозь неё некогда проросло огромное дерево. Детали корней на глубине пяти метров от поверхности земли были явственно различимы. Разумеется, дерево находилось в лесу. А вот печь была вовсе не в лесу, а на берегу какого-то древнего ручья — возле болота. Из всего этого возникал естественный вопрос: когда же всё это произошло? Сколько времени минуло с той самой поры, если исчезло болото, исчез ручей, вырос могучий древний лес, простоявший явно не одно столетие или даже тысячелетие, затем исчез лес, образовалась степь, в которой живёт тувинский народ, ни о каком лесе даже в легендах своих и слыхом не слыхивавший? Кто были те люди, выплавившие, возможно, первый в истории человечества металл? Подержал я в руках тот кусок меди и крепко задумался…
Трудился Анатолий Илларионович не только в Красноярском крае, но и в Туве. Позднее ему там начал помогать сын, Александр Анатольевич, тоже геолог-поисковик. А искать в наших недрах геологам всегда было что. Много разных драгоценных минералов сокрыто в тувинской землице. Например, агальматолит, по-тувински «чонар-даш» — мягкий камень. Это такой чудо-камень, из которого мастера вырезают знаменитые на весь мир художественные изделия малой скульптурной формы. Гора Сарыг-Хая (Жёлтая Гора) давно стала местом паломничества местных камнерезов, а изделия из чонар-даша — визитной карточкой Тывы. В фондах Национального музея Республики Тыва хранится целая коллекция работ выдающихся мастеров-камнерезов.
Помнится, в начале девяностых годов случилось вблизи города Ак-Довурак ещё одно открытие: были найдены огромные запасы яшмовидного роговика каратулита — почти полмиллиона тонн! С виду минерал этот невзрачен абсолютно. Впрочем, необработанные камни часто так и выглядят. Существует красивая легенда: когда король Британии Георг V в самом начале прошлого столетия впервые увидел в мастерской огранщика крупнейший в истории человечества алмаз «Кулиннан» весом 3106, 75 карата, он разочарованно воскликнул:
— Если бы я заметил его где-нибудь на дороге, скорее всего пнул бы ногой или просто прошёл мимо...
Руки человеческие превращают с виду обычный камень в настоящее чудо!
Необработанный кусок каратулита выглядит непрезентабельно. Просто кусок горной породы. Но если его отполировать, то камень, имеющий прочность, не уступающую граниту, обретает глубокий чёрный цвет и идеально гладкую поверхность с ровным шелковистым блеском. Он может прекрасно использоваться и как облицовочный материал при строительстве, и как поделочный при производстве сувениров или ювелирных украшений из естественного камня чёрного цвета с идеальной полировкой! Из-за своего уникального свойства тувинский каратулит получил торговое наименование «чёрная яшма». Хотя само это сочетание слов, безусловно, звучит несколько комично для тех, кто знает, что слово «яшма» вообще-то означает «пёстрая». Тогда, в середине девяностых, об этом открытии и о явлении миру чёрного тувинского камня рассказывали мне с большим энтузиазмом отец и сын Науменко.
Ещё одна каменная история вспоминается мне в связи с Тувой и тувинцами. Это древняя орхоно-енисейская руническая тюркская письменность, сохранившаяся в надписях на камнях…
Она стала символом единства и неделимости великой древней культуры, созданной алтайской языковой семьёй народов на гигантской территории от берегов Тихого океана до венгерской Пушты в центре Европы. Обнаруженная и сохранившаяся в большинстве своём на территории современной Тувы и прилегающих к ней землях могучего Енисея, она доныне напоминает о единой алтае-саянской языковой семье. А к ней относится так много языков, что одно только их перечисление займёт здесь уйму места. Скажу лишь, что это азербайджанский, башкирский, казахский, якутский, а также татарский, хакасский и, конечно, тувинский...
Общие предки и исторические корни народов, говорящих на этих языках, находятся здесь, в Алтайских и Саянских горах.
Как известно, орхоно-енисейская тюркская руническая письменность была расшифрована в конце позапрошлого века. После прочтения множества надписей выяснилось, что это не просто какие-то тексты, а настоящая древняя поэзия! Впрочем, не всё так просто…
Древние кочевые тюркоязычные народы, жившие на степных просторах Центральной Азии, создали в VI веке высокоразвитую империю народа «көк тюрк» («голубых тюрков») — Тюркский каганат, имевший развитую культуру, о чём свидетельствуют письменность и литературные памятники, которые являются ценным, непреходящим наследием всех тюркоязычных народов, расселившихся по огромной Евразии.
Мне близка точка зрения известного учёного-этнографа Льва Гумилева, считавшего, что кочевая культура имеет самостоятельный путь становления, а не является периферийной, варварской, неполноценной — ныне вопрос может быть поставлен лишь о взаимных влияниях между осёдлыми и кочевыми народами, а никак не о заимствовании кочевниками культуры у китайцев, согдийцев или греков.
И действительно: две трети всех памятников орхоно-енисейской письменности находится на территории Тывы — древней земли, по праву считающейся колыбелью многих народов евразийского континента. Древнетюркские надписи на каменных стелах следует рассматривать не только в системе культуры, языка, религии и традиционного мировоззрения народов Центральной Азии, но и как бесспорное явление древней литературы. Памятники орхонской письменности, определённые учёными как историко-героические поэмы — «Малая надпись в честь Кюль-тегина», «Большая надпись в честь Кюль-тегина», «Надпись в честь «Тоньюкука» (все VII века) — находятся на берегу реки Орхон в Монголии. Древнетюркские памятники, обнаруженные вдоль Верхней и Средней части Енисея — на территории Тывы, Хакасии и Минусинской котловины, являются в основном образцами эпитафийной лирики древних тюрков VII-XII веков. Всего насчитывается без малого полторы сотни памятников орхоно-енисейской письменности, причём около девяноста расположены на земле Тывы.
Рунические надписи тюрков являются одним из древних пластов тюркоязычной словесности, имеющей неоспоримые художественные достоинства: эпический принцип построения сюжета, сложный пространственно-временной континуум, проще говоря, — непрерывность, а также особенность ритмической организации, стиля.
Историко-героические поэмы древних тюрков по ритмике, стилю повествования близки к таким эпическим произведениям, как «Манас», «Гэсэр», «Джангар», «Урал-Батыр», «Маадай-Кара», «Алтын-Арыг» и другим. Древнетюркские памятники сходны с эпическими сказаниями по архитектонике и по основной смысловой концепции — борьбы добра и зла.
Влияние древнетюркской культуры на современную тюркскую литературу очевидно. К великому сожалению, древнетюркская письменность была утрачена после XII века, просуществовав около шести столетий, в связи с чем прервалась эволюция письменной культурной традиции. Сегодня можно говорить об историко-генетическом влиянии через устную традицию, а также об исторической и лингвистической памяти тюркоязычных народов.
Были забыты такие стилеобразующие мотивы эпитафийной лирики древних тюрков, как «адырылдым» («я отделился») и «покпедим» («я не насладился»). Благодаря расшифровке, переводам и изданию памятников орхоно-енисейской письменности, современные тюркские лирики могут ощутить свою поэтическую и эстетическую близость с художественным наследием предков. Поэтическое чувство, с древних времён присущее тюркоязычным народам, не могло не отразиться и на тюркской топонимике! Сегодня одни из учёных-языковедов рассматривают орхоно-енисейские надписи как поэтические тексты, построенные в рамках стихотворного канона. А многие вообще считают все письменные надписи древних тюрков образцами особых литературных сочинений. Безусловно, я согласен с исследователями, что древнетюркские рунические надписи являются памятниками литературы. Тогда в чём же поэтические особенности этих уникальных текстов?
Древнетюркские надписи (в честь Кюль-тегина, Тоньюкука, «Гадательная книга») являются силлабическими, свободными стихами, состоящими из неравносложных строк, построенных в зависимости от художественной интонации, подобно структуре интонационно-фразовых стихов. То есть они являются дисимметрическими свободными стихами: чем древнее поэзия, тем она более свободна от изобразительно-выразительных канонов.
Наблюдаются зачатки рифмы в виде семантических повторов, заметно тяготение к силлабической системе стихосложения, и поныне характерной для стихосложения народов Южной Сибири (тувинцев, алтайцев, бурятов, шорцев, хакасов, якутов). Здесь изобилуют метафоры, сравнения, а также фразеологические обороты, пословицы, поговорки. Причём, средства звуковой организации древних текстов аналогичны средствам современной тюркской поэзии. В енисейских эпитафиях на каменных памятниках из Уюк-Турана, села Элегеста, реки Барык можно заметить немалые поэтические достоинства!
Без проникновения в эмоциональный мир древнетюркской лирики сложно уловить весь трагизм и поэтичность слова «адырылдым» из енисейских эпитафий, который на русский язык переводится мало что говорящим словосочетанием «я отделился», тогда как в контексте надписи, помимо горечи расставания и прощания, слышится не просто горестный вздох, а буквально рыдание человека, покидающего родных.
А ещё можно отметить, что само слово «adyryldym» используется в текстах как метафора — при наличии в древнетюркском языке слов «ɵlum» — смерть, «ɵlur» — умирает, «ket» — уходить, исчезать, умирать. Эмоциональный тон, эмоциональная окраска, стилистический ореол слова — вот важнейший фактор в развертывании лирического сюжета; тон, задаваемый этим словом, определяет суть самого стихотворения.
Но ведь орхоно-енисейские памятники имеют помимо всего прочего и мировоззренческие особенности. У древних тюрков, к примеру, можно обнаружить наличие мировоззренческого феномена — трёхуровневой модели Вселенной, которая идёт из глубинных, архаических пластов религиозно-мифологического сознания восточных народов. Всюду присутствует Синее (голубое) Небо. В результате появляется третий элемент триады — «…между ними был сотворён Сын Человеческий».
Тенгри, верховное божество теологической структуры, определяет судьбы людей, управляет их делами. Характерной чертой стиля древних эпитафий является плач по небесным светилам, которые навсегда погасли для героев этой говорящей фразы: «Солнце и луну на голубом небе я перестал ощущать»…
Енисейские древнетюркские надписи на стелах, когда-то названные исследователем «кладбищенской поэзией», представляют собой небольшие тексты, описывающие основные события из жизни древнетюркских воинов. Эти документы прошлого выражают сожаление, плач по жизни на земле, горечь расставания. Хочу отметить: эпитафии содержат в основном обращение от первого лица — от лица погибшего знатного, доблестного героя. Безусловно, память о герое оставлял близкий ему человек, знавший его биографию, важные детали жизни, доблестные поступки и семью.
Енисейские эпитафии написаны большей частью в одной художественной форме, стиле и композиции, что говорит о существовании общей древнетюркской литературной традиции — маркировке надгробных памятников полководцев, героических воинов поэтическими текстами. Вполне вероятно, что существовали и специальные «поэты», знатоки своего дела, которые создавали тексты эпитафий, освещавших жизнь достойных людей той исторической эпохи, «поэты», глубоко чувствующие сожаление и скорбь человека, уходящего в мир иной.
Древнетюркским эпитафиям присущ лапидарный, сжатый стиль, поэтому они проще по организации, чем современные тексты. Как поэт я могу отметить, что трёхстишную форму имеют не только надписи орхоно-енисейских памятников, но и некоторые миниатюры древнетюркской «Ырк битиг» («Гадательной книги») — рукописного сокровища XI века.
Сохранность памятников определяется материалами, на которых они созданы. До наших дней дошли эпиграфические памятники, сделанные на обработанном камне — «бенкюта́ш» (в переводе с древнетюркского — «вечный камень») и на природных валунах — «битикта́ш» (в переводе с древнетюркского — «писаный камень»), а также на металле: монетах, зеркалах, чашах и тому подобном. Надписи на недолговечных материалах (деревянные дощечки, пергамент, шёлк, бумага) в основном утрачены. Незначительное число рукописей сохранилось в Восточном Туркестане.
Распространение среди тюркских народов иных религий постепенно привело к вытеснению собственного орхоно-енисейского письма. Уже к XIII веку в связи с принятием ислама тюркскими народами оно было повсеместно вытеснено. И в то же время параллельно с этим процессом отдельные знаки енисейского письма продолжали присутствовать на предметах материальной культуры (пряжках поясных ремней, конской сбруе и многом другом) ещё весьма продолжительное время, вплоть до начала минувшего столетия.
Древнетюркская письменность пользовалась наддиалектным койне — общим языком, возникающим в результате смешения нескольких диалектов того времени. Она была основана на языке властвующего племени собственно тюркютов, который также именуется орхоно-тюркским языком. В некотором смысле его можно назвать древнетюркским литературным языком.
Принца Йоллыг-тегина (затем кагана) можно назвать первым известным тюркским поэтом, писателем и историком. Считается, что он был автором ряда памятных надписей в честь принца Кюль-тегина и Бильге-кагана, а также Кутлуга (после восшествия на престол — Эльтериш-кагана). Эти надписи отражают культуру древних тюрков, их поэзию, прозу, исторические познания и государственную идеологию.
Будучи письменным, орхоно-енисейский язык стал уже следующим этапом развития устного тюркского праязыка, наследниками которого являются все современные тюркские языки, в том числе, безусловно, и тувинский.
Речевая картина Сибири необыкновенно пестра, поскольку сложена из множества разных языков и наречий.
Я рассматриваю её тюркский слой лишь потому, что мне проще различить эти слова среди множества иных, так как предки мои были тюрками. Давняя мимолётная в прямом и переносном смысле встреча с шаманкой Сайсуу Орлановной Оюн когда-то наглядно продемонстрировала мне близость древней истории и общую родословную наших народов.
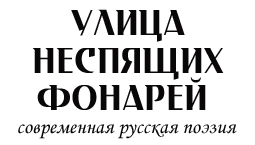

Комментарии 5
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы оставить комментарий.
Эдьдар,
получилась смесь рассказа про шаманку и лингвистическое эссе. На мой взгляд, стоило бы разделить.
Кстати, корейские язык не относится ни к каким языкам, он так называемый изолированный.
Эдьдар,
получилась смесь рассказа про шаманку и лингвистическое эссе. На мой…
Дорогой Михаил! Спасибо за мнение, я его очень ценю. По поводу темы эссе: общей скрепой повествования являются тувинские камни: черная яшма, камни, покрытые руническими знаками, и древний шаманизм, имеющий общие тюркские корни. Насчет корейского языка спорить не буду, информацию почерпнул из лингвистических источников и потому удалил из перечня, поскольку не это самое важное в моем повествовании. Ещё раз благодарю за труд прочтения. Правки внёс.
Благодарю за интересную статью!
С уважением, Олег Мельников.
интересная тема, особенно с таким введением) действительно хороший контраст – шаманский бубен на борту самолёта)
только, мне кажется, "Такое изредка бывает" – не очень удачное вводное предложение и по смыслу, и по своей форме. во-первых, потому что "изредка" встречается чуть ниже ещё раз (а это достаточно специфическое слово, не часто употребляемое), во-вторых, потому что "изредка" намекает на то, что именно данное конкретное событие происходит с особой редкой периодичностью.
условно: "Она пишет мне изредка, всегда по делу" и "Я изредка вижу монстров в лесу".
Для подобного Вашему случая, я бы всё же изменила формулировку первого предложения на "Такое бывает редко". либо убрать совсем.
интересная тема, особенно с таким введением) действительно хороший контраст –…
Благодарю за мнение. Второе "изредка" заменил другим словом, согласен с Вами. А в первом предложении - не согласен. Тут слово "изредка" написано к месту и означает именно то, что я хотел подчеркнуть: не "редко" и не просто "бывает", а именно "изредка бывает". Оттенок смысла не равен никакому иному варианту.