Дрофенко Сергей. А все, что унесу с собой...  10/10
10/10
Рубрика: Без рубрики | Автор: Страница Памяти | 12:14:48 03.04.2022
А всё, что унесу с собой
под твой, кладбищенская птица,
зелёный куст, звалось судьбой
и никогда не повторится.
Омытый свежей влагой рос,
я больше не вернусь в жилище,
в котором мой ребёнок рос.
Он будет искренней и чище.
Здесь рядом, на замшелом пне,
бывало, мы сидели оба.
Его раздумий обо мне
не омрачи, навет и злоба.
Я снова вспомню явь и сон
и, с чувством радости знакомым,
сюда, во мрак, перенесён,
увижу свет над нашим домом.
И плача близких стану звать,
благословляя всё земное,
а на земле не будут знать,
что под землёй сейчас со мною...
скопировано: https://45parallel.net/sergey_drofenko/stihi/
Сергей Петрович Дрофенко родился 12 августа 1933 в селе Каменка Каменского района Днепропетровской области, умер 9 сентября 1970 в Москва в результате несчастного случая. В 1957 году окончил факультет журналистики Московского университета. Работал в Сибири на Запсибе, несколько лет заведовал отделом поэзии в журнале «Юность» в Москве.
Печататься начал в 1960 году. В 1966 году в Москве увидела свет первая и единственная прижизненная книга Сергея Дрофенко – сборник стихов «Обращение к маю». Посмертно вышли книги: «Зимнее солнце» (1972), «Избранная лирика» (1972), «Стихи» (1985).
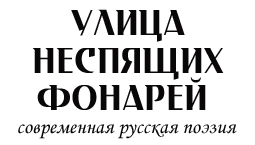

Комментарии 10
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы оставить комментарий.
Интересно, что все его биографии указывают: прямо - на знаменитого зятя-чтеца стихов и косвенно - на тот факт, что он был незаметным чернорабочим литературы и, в частности, поэзии своего времени.
Уже сейчас такой взгляд кажется, как минимум, предвзятым, посмотрим, как это будет видеться в будущем...
Очень интересная задумка, Михаил, это размещать в рамках
Страницы Памяти
тех ныне забытых и полузабытых поэтов, которые и в свое-то время
не были очень уж обласканы издательствами, что советскими, что антисоветскими
но все же были литературными профессионалами (в нашем с вами, надеюсь, понимании)
Когда мы с Линой беседовали о "устном народном творчестве" - это немного о другом
но и когда речь идет о лидерах, начиная от Бродского и заканчивая, скажем, евг. евтушенко
то эта значимая когорта не только не исчерпывает литературы в целом,
но и существенно искажает представление об эпохах, "как они были"
кстати, благодарен вам за публикацию В.Бокова, хоть и не на "Странице памяти"
Опять же возвращаясь к беседе с Линой, для Памяти нужны собиратели фактов про эпоху
ну что-то типа "архивариусов поэтических событий"
Очень интересная задумка, Михаил, это размещать в рамках
Страницы Памяти
тех ныне…
Игорь,
спасибо вам за поддержку и помощь: добро пожаловать и с другими именами, которые вы захотите предложить для этой страницы!
Это не только архив, на мой взгляд, но и определенный уровень поэзии, который, на мой взгляд, часто выше официального соответствующих эпох.
))
Игорь,
спасибо вам за поддержку и помощь: добро пожаловать и с…
Добавлю немного по теме, Михаил
Термин "официальная поэзия" до сих пор в ходу,
хотя какая поэзия нынче "официальная"?
Но уж в шестидесятые на виду были поэты модные,
а не официальные
(евтушенко, вознесенский, ахмадулина)
Скажем, близок к властным кругам был Винокуров
однако его поэзия был классического разлива, хотя и не того, полета
какова была его тогдашняя востребованность
Думаю дело не в "официозе" (имевшем место в те далекие уже годы
и сильно искажавшем картину с точки зрения нас, тогда еще несмысшленышей),
а в том, что уровень поэзии второго плана тогда был неизмеримо выше
чем казалось нам тогдашним
Сложность как раз в том, что у меня в "архиве" таких имен не одно-два, а сотни
если не тысячи
но что-то особое я обязательно отберу и предложу
Добавлю немного по теме, Михаил
Термин "официальная поэзия" до сих пор…
Игорь, да, терминология - дело тонкое, но, конечно, мы имеем в виду тех авторов, кого не ждали с распростёртыми объятиями ни издательства, ни публика.
Я уверен, что вы предложите самых поэтичных авторов!
))
Игорь, да, терминология - дело тонкое, но, конечно, мы имеем…
Воронежский поэт Павел Леонович Мелехин (1939-1983) имел своеобразное представление об авторском праве и чувстве собственной значимости: «Жизнь Мелехина вечно была не устроена, и, видимо, для того, чтобы хоть чем-то её скрасить, он пускался на всякие проделки. Так, он от имени Воронежской писательской организации сам прислал однажды в «Литературную газету» телеграмму о своей смерти. А редакция, не проверив этого печального факта, опубликовала сообщение о кончине поэта. Всё это, конечно, вскрылось, был шум, имя Мелехина долгое время многократно упоминалось во время разговоров на литературные и окололитературные темы. А в семидесятых годах, когда он переехал жить в Подмосковье, разнесся слух, что он пишет стихи за воронежского поэта Михаила Касаткина. И когда Павел зашёл в редакцию альманаха «Поэзия», я позвал его в свой кабинет и спросил: - Слушай, Паш, я уже от нескольких человек слышал, что ты пишешь стихи за Касаткина... Нисколько не смутившись, он выпалил: - Конечно, пишу! Разве он сам может сотворить что-то путное? Я удивился: - А зачем? Он мне немедленно всё объяснил: - У меня написаны горы стихов. Они без движения валяются годами - бегать по редакциям, устраивать их в журналы да в газеты, унижаться я не люблю. А жить-то нужно. Да у меня и ребёнок родился, тоже молока просит... Так вот, когда мне до зарезу нужны деньги, я звоню в Воронеж: «Миша, срочно присылай три сотни. А я тебе на эту сумму немедленно вышлю стихи». Я не поверил ему: - Правда?! - Да абсолютная правда! Я и не только за него пишу стихи. Ещё, пожалуй, найдется целый десяток человек, которым я продаю их. Я усомнился в этом, но Павел твёрдо сказал: - Дело, конечно, ваше - верить мне или не верить. Но это действительно так! Когда-нибудь это будет известно всем!.. Потом в «Литературной газете» появилась заметка о том, что в поэтических книгах П. Мелехина и А. Головкова, вышедших в «Советском писателе», есть несколько стихотворений, в которых совпадают не только отдельные строки, но и целые строфы. Я сверил их. И в самом деле нашёл эти совпадения... Болезнь Павла прогрессировала. Он стал писать жалобы во все инстанции, в которых правдивые и горькие факты перемежались с явно вымышленными и невозможными. В одном из писем, копию которого Павел отдал мне, он требовал от очень высоких инстанций не только публикации его стихов, но и присвоения ему звания Героя Советского Союза за смелые разоблачения многих ответственных чиновников Союза писателей!.. Не больше и не меньше - звания Героя Советского Союза. Кончилась его жизнь трагически - он выбросился из окна... Уже после его смерти в «Советском писателе» вышла книга стихов М. Касаткина. И вдруг... Кто-то обнаружил, что одно стихотворение является акростихом. Из первых букв, начинающих каждую строку, сложилось: «Касаткин ти говно». Слова, начинающегося на «ы», не нашлось... Мог ли сам автор так «тепло» отозваться о себе? Я имел прямой разговор с Касаткиным. Он объяснил мне очень путано, что, мол, Мелехин правил эти стихи и таким образом поиздевался над ним. Но возникает вопрос: за что? И ещё один: можно ли править до такой степени, чтобы получилось что-то совершенно немыслимое? Каждый человек, хоть немного знакомый с поэтической работой, знает, что для этого нужно все стихотворение переписать заново. И почему Мелехин должен был это делать? Я вспомнил фразу Павла: «Когда-нибудь это будет известно всем!» Вероятно, он имел в виду и этот акростих...». Старшинов Н.К., Что было, то было… На литературной сцене и за кулисами: весёлые и грустные истории о гениях, мастерах и окололитературных людях, М., «Звонница-МГ», 1998 г., с. 404-405.
Источник: vikent.ru/enc/2777/
Я прощаюсь: пора!
Павел Мелехин
Я прощаюсь: пора!
Проплывает на уровне полки
Вся поросшая лесом гора,
Как огромная ёлка.
На макушке – луна,
Как игрушка, сияет на совесть,
Голубым леденя
Карнавально несущийся поезд.
Я б замкнулся, как скит,
Но встаёт впереди неизвестность,
И бежит, и бежит
За окошком чужая окрестность.
Выдаст мне, не тая,
Хоть одну она верную душу,
Без которой моя
Никогда не проглянет наружу?
Без которой в груди
Ты верёвочкой, горе, завейся…
Как всегда, впереди,
Не сливаясь, сливаются рельсы.
Далеко не впервые читаю стихи Сергея Дрофенко, и не впервые думаю, что он не был чернорабочим литературы, хоть его имя и не на слуху. Поэтов иже с ним советская критика относила к разряду "тихих" поэтов, но она обожала всяческую кастовость литературы, и постоянно внедряла в сознание читательских масс немудрящую мысль, что столичные поэты, это - команда профессионалов, а лиги региональные и тихие, это - так себе, любители. Редкие фигуры прорывали этот заслон. Навскидку могу назвать троих: Рубцова, Чухонцева, Панченко. Разумеется были ещё, но их было меньшинство. Таким образом, в этом смысле, нам остаётся преодолевать инерцию социалистической кастовости в литературе, поскольку полузабытый статус таких поэтов, как Дрофенко, Передреев, Прасолов и многих других, неслучаен и абсолютно несправедлив.
Воронежский поэт Павел Леонович Мелехин (1939-1983) имел своеобразное представление об…
Пикантная история, Игорь, не менее пикантная, чем растиражированная Сарновым история про стихи Ахматовой в книге Журавлева, если не ошибаюсь. Спасибо, что привели!
Далеко не впервые читаю стихи Сергея Дрофенко, и не впервые…
Спасибо за заинтересованность по отношению к "тихой" поэзии, Феликс
И спасибо Михаилу Тищенко за аму идею создать на сайте Страницу Памяти
Когда я только начинал знакомиться с массовой поэзией сначала советских времен
а потом уже и времен Интернета
я страшно удивился тому, насколько у даже совершенно никому не известных авторов
отдельные стихи могт быть хороши
Дело думаю не в какой-то ангажированности советских издателей (хотя претензий к ним много)
которые рекламировали кого-то "ненужного городу и миру"
а в постоянной переоценке ценностей в литературе и обществе
но это разговор долгий и не простой
лучше просто возвращать в литпроцесс качественных авторов прошлого
Дрофенко, Передреев, Прасолов и другие сильные авторы вошли в литературу отчасти усилиями Вадима Кожинова
общественные взгляды которого довольно спорны (для меня)
каждому свое
Спасибо за заинтересованность по отношению к "тихой" поэзии, Феликс
И спасибо…
Совершенно верно, Игорь, фигура Вадима Кожинова, без сомнения одна из самых спорных среди поколения пришедшего в литературу после 20 съезда, ставшего уже притчей во языцех. Был ли он юдофобом? Не уверен, он относился к тем говорителям, которые ратовали за Россию для русских, точнее, за Израиль для евреев. Вот, тонкая черта, он был сионистом пошиба Нашего современника и Молодой гвардии, но вкусовые пристрастия у него были отменные. Помню случился в Лите моего времени не-то семинар, не-то чтения, посвящённые Тютчеву. Разумеется, в какой-то момент на трибуне оказался Кожинов, и запел свою песню про отзывчивость русской души и про русскость Тютчева. Мысли, конечно, не мудрящие, и по сути, верные, но произнесенные с таким апломбом, что реплика одного из наших профессоров с места о том, что Тютчев, произошёл от чечероне, то есть у поэта - итальянские корни ( что тоже на сегодняшний день, да и тогда в 89том, особой новостью не является) вызвала взрыв одобрительного смеха.